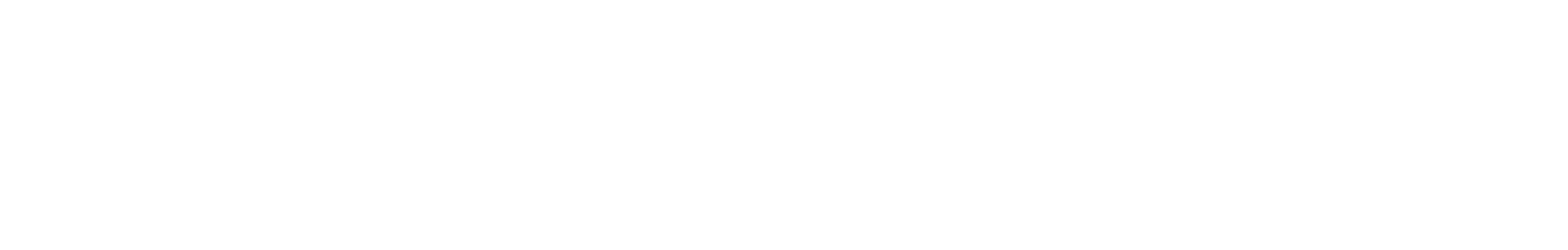
Коротко опишите ситуацию
Ответим в течение одного рабочего дня
Судебная практика по делам о взаимосвязанных корпоративных спорах (анализ)
Судебная практика по делам о взаимосвязанных корпоративных спорах (анализ)
16.07.2025
Судебная практика по делам о взаимосвязанных корпоративных спорах (анализ)
Судебная практика по делам о взаимосвязанных корпоративных спорах (анализ)
16.07.2025
История корпоративных споров
Корпоративное право как отрасль, регулирующая возникновение, существование и прекращение основных субъектов экономики, корпоративных юридических лиц, а также взаимоотношения лиц при их управлении и в отношении прав участия в данных лицах, является существенной частью регулирования экономики.
Корпоративные споры, как и корпоративные отношения, за примерно 30 лет существования Гражданского кодекса РФ (1994 год), Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО), Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – ФЗ о РЦБ) претерпели существенные изменения.
В первые годы существования большую часть корпоративных споров, по крайней мере по степени известности юридическому и бизнес-сообществу, составляли споры по захвату корпоративного контроля в акционерных обществах. Другие корпоративные споры так или иначе были связаны с такими спорами. Проведенная в 2015 году реформа по созданию профессиональных держателей реестров акционеров (регистраторов), внесение изменений в ФЗ об АО, ФЗ о РЦБ положили конец таким спорам, наряду с некоторыми другими изменениями. До этого времени корпоративный захват и соответствующие корпоративные споры представляли собой завладение реестром акционеров общества, проведение альтернативного общего собрания акционеров, выборы альтернативного генерального директора, то есть создание некой параллельной сущности юридического лица. Такому основному корпоративному спору и соответствующим судебным процессам по оспариванию проведенных общих собраний акционеров, корпоративных действий и решений сопутствовали споры по истребованию документов общества, оспариванию выпусков ценных бумаг и прочие споры. С принятием указанных изменений в 2015 году в ФЗ об АО, ФЗ о РЦБ, а далее и с принятием Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ такие категории споров существенно уменьшились по количеству дел.
Для текущего положения дел в корпоративных спорах большим изменением стало принятие постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Пленум № 62).
Корпоративные споры, как и корпоративные отношения, за примерно 30 лет существования Гражданского кодекса РФ (1994 год), Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО), Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – ФЗ о РЦБ) претерпели существенные изменения.
В первые годы существования большую часть корпоративных споров, по крайней мере по степени известности юридическому и бизнес-сообществу, составляли споры по захвату корпоративного контроля в акционерных обществах. Другие корпоративные споры так или иначе были связаны с такими спорами. Проведенная в 2015 году реформа по созданию профессиональных держателей реестров акционеров (регистраторов), внесение изменений в ФЗ об АО, ФЗ о РЦБ положили конец таким спорам, наряду с некоторыми другими изменениями. До этого времени корпоративный захват и соответствующие корпоративные споры представляли собой завладение реестром акционеров общества, проведение альтернативного общего собрания акционеров, выборы альтернативного генерального директора, то есть создание некой параллельной сущности юридического лица. Такому основному корпоративному спору и соответствующим судебным процессам по оспариванию проведенных общих собраний акционеров, корпоративных действий и решений сопутствовали споры по истребованию документов общества, оспариванию выпусков ценных бумаг и прочие споры. С принятием указанных изменений в 2015 году в ФЗ об АО, ФЗ о РЦБ, а далее и с принятием Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ такие категории споров существенно уменьшились по количеству дел.
Для текущего положения дел в корпоративных спорах большим изменением стало принятие постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Пленум № 62).
Взаимодействие основных исков из корпоративных правоотношений
В настоящее время характер корпоративных споров существенно изменился. Если взять классификацию корпоративных споров, примененную в СПС «Консультант Плюс», то мы можем увидеть следующую картину по количеству судебных споров, рассмотренных арбитражными судами различных уровней за период с 2024 года по июнь 2025-го.
Объективно мы видим, что большую часть судебных споров составляют споры о взыскании убытков из хозяйственной деятельности, далее по убыванию идут требования:
Объективно мы видим, что большую часть судебных споров составляют споры о взыскании убытков из хозяйственной деятельности, далее по убыванию идут требования:
- о признании недействительным решения общего собрания участников ООО;
-
о признании крупной сделки ООО недействительной;
-
о взыскании действительной стоимости доли в УК ООО;
-
о признании сделки с заинтересованностью ООО недействительной;
- о признании недействительным внесения изменений в ЕГРЮЛ;
- об исключении из состава участников ООО.
Безусловно, количество рассмотренных аналогичных судебных споров в отношении акционерных обществ является также значительным, поскольку данная статистика не учитывает пропорциональное соотношение зарегистрированных обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ в целом.
Тем не менее на основе указанных данных можно составить относительно объективную картину, что в основном корпоративные споры состоят из требования о взыскании убытков с директора и (или) лица, имеющего фактическую возможность определять действия общества (статья 53.1 ГК РФ), с включением других категорий корпоративных споров (и не только корпоративных).
Тем не менее на основе указанных данных можно составить относительно объективную картину, что в основном корпоративные споры состоят из требования о взыскании убытков с директора и (или) лица, имеющего фактическую возможность определять действия общества (статья 53.1 ГК РФ), с включением других категорий корпоративных споров (и не только корпоративных).
Статистика по корпоративным спорам
422 - О взыскании убытков, понесенных в результате неисполнения юридическим лицом и его представителями требований законодательства.
836 - О взыскании убытков, понесенных в результате необоснованных выплат в виде зарплат, дивидендов, премий.
4274 - О взыскании убытков, понесенных в результате хозяйственной деятельности.
1086 - Об обязании передать документы юридического лица.
2640 - О признании крупной сделки ООО недействительной.
3388 - О признании недействительным решения общего собрания участников ООО.
1798 - О признании сделки с заинтересованностью ООО недействительной.
1040 - О признании недействительным решения общего собрания акционеров.
308 - О признании недействительным решения совета директоров АО.
639 - О признании сделки с заинтересованностью АО недействительной.
1726 - О признании недействительным внесения изменений в ЕГРЮЛ.
1732 - Об исключении из состава участников ООО.
2498 - О взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале ООО.
247 - О переводе прав и обязанностей по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО.
1178 - О признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО.
517 - О признании права собственности на долю в уставном капитале ООО.
273 - Об обязании вернуть акции из чужого незаконного владения.
836 - О взыскании убытков, понесенных в результате необоснованных выплат в виде зарплат, дивидендов, премий.
4274 - О взыскании убытков, понесенных в результате хозяйственной деятельности.
1086 - Об обязании передать документы юридического лица.
2640 - О признании крупной сделки ООО недействительной.
3388 - О признании недействительным решения общего собрания участников ООО.
1798 - О признании сделки с заинтересованностью ООО недействительной.
1040 - О признании недействительным решения общего собрания акционеров.
308 - О признании недействительным решения совета директоров АО.
639 - О признании сделки с заинтересованностью АО недействительной.
1726 - О признании недействительным внесения изменений в ЕГРЮЛ.
1732 - Об исключении из состава участников ООО.
2498 - О взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале ООО.
247 - О переводе прав и обязанностей по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО.
1178 - О признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО.
517 - О признании права собственности на долю в уставном капитале ООО.
273 - Об обязании вернуть акции из чужого незаконного владения.
Корпоративный спор, как правило, связан с претензиями, взаимными претензиями акционеров, участников или бенефициаров обществ, иногда директор общества выступает самостоятельным субъектом, но такие споры не отличаются обычно сложностью. Нормами корпоративного права не предусмотрена возможность предъявления прямых требований о взыскании убытков между акционерами/участниками. Несмотря на отсутствие прямого запрета о возможности таких исков, в том числе в силу статьи 12 ГК РФ, относительно выбора способа защиты нарушенного права судебная практика исходит из того, что требования о возмещении убытков могут быть предъявлены только в пользу общества, например определение Верховного Суда РФ от 27.11.2015 № 305-ЭС15-14722 по делу № А40-126605/2014. Такой подход обусловлен тем, что в деятельности общества заинтересованы не только его участники/акционеры, но и так называемые стейкхолдеры, к которым относят также и кредиторов, сотрудников, государство. Вместе с тем данный вопрос о возможности предъявления иска о взыскании убытков непосредственно в пользу участника/акционера общества остается открытым.
В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.11.2021 № Ф04-7398/2019 по делу № А27-4513/2019 суд по существу сделал вывод о возможности взыскания убытков, причиненных обществу директором, в пользу материнского общества.
Однако такое взыскание возможно только в том случае, если ПАО «Кокс» выполняет в структуре холдинга функцию аккумулирования и перераспределения доходов, полученных группой компаний; в ином случае размер убытков необходимо определять пропорционально вкладу каждого общества, включенного в структуру холдинга.
Непосредственно связанными с таким основным требованием зачастую заявляются требования об оспаривании сделок, совершенных директором, на основании статьи 173.1 ГК РФ, пункта 6 статьи 79 ФЗ об АО, пункта 4 статьи 46 ФЗ об ООО (крупные сделки), а также пункта 2 статьи 174 ГК РФ, статьи 84 ФЗ об АО, пункта 6 статьи 45 ФЗ об ООО (сделки с заинтересованностью) и просто на основании пункта 2 статьи 174 ГК РФ в случае причинения убытков обществу совершенной сделкой. Подходы по рассмотрению таких споров были собраны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – Пленум № 27). Внешнее выражение деятельности и результат деятельности общества складывается из результатов совершенных сделок, собственно, и причиненные обществу убытки – это следствие совершенных или не совершенных сделок. Поэтому сочетание данных требований при рассмотрении судебных споров – достаточно частое явление.
Споры в отношении решений, принятых обществом, как правило, также касаются одобрения сделок общества или изменений уставного капитала / вкладов в имущество общества. Этим обусловлено большое количество дел в данной категории.
С момента внесения соответствующих изменений в ГК РФ, ФЗ об АО, ФЗ об ООО в отношении оспаривания сделок, а также Пленума № 27 прошло несколько лет, что позволило выработать вполне определенную практику по данной категории дел. Тем не менее в конце 2024 года было вынесено прецедентное определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2024 № 308-ЭС24-3124 по делу № А53-16963/2022. Верховный Суд по существу продолжил тенденцию, имеющуюся в регулировании корпоративных правоотношений: судебное усмотрение заменяет / существенно видоизменяет норму права. В данном определении Верховный Суд счел, что при определенных обстоятельствах, по правилам оспаривания крупных сделок, могут быть оспорены и сделки, формально не попадающие по количественному критерию. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.12.2024 по данному делу данная позиция была принята, соответствующие сделки признаны недействительными. По данному делу не подавалась апелляционная жалоба, что, видимо, показывает, что ответчики оценили вероятность пересмотра решения как очень низкую. При этом важно отметить, что в данном конкретном споре оспариваемая сделка могла быть признана недействительной и по причине причинения убытков обществу, то есть по пункту 2 статьи 174 ГК РФ.
В некоторых корпоративных спорах истцы в качестве убытков заявляют не только прямые убытки, но и упущенную выгоду в виде утраты корпоративной возможности. Действительно, учитывая фидуциарный характер обязанностей директора, а в какой-то степени и участников/акционеров (с определенными оговорками), директор может причинить убытки обществу, не только заключив заранее убыточную сделку, но и своими действиями или бездействием лишив общество возможности вести деятельность, заключать определенные сделки. Таким примером утраты корпоративной возможности является создание параллельного бизнеса, продажа имущества которого могла бы быть использована для высокомаржинальных проектов самим обществом (например, строительство жилья, IT-проекты с использованием объектов интеллектуальной собственности). В частности, в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 16.04.2024 № Ф05-35866/2022 по делу № А40-131626/2022 суд сделал следующие выводы:
Поведение генерального директора при ведении дел общества может быть признано недобросовестным, в частности, если директор использовал коммерческие возможности возглавляемого им общества в своих интересах или интересах третьих лиц (присвоение корпоративных возможностей), в том числе допустил перевод осуществляемой обществом деятельности на иное юридическое лицо, организовал создание «фирмы-двойника», на которую был переключен потребительский спрос и т. п.
При этом участник оборота, в интересах которого действовал генеральный директор, в силу пункта 1 статьи 1107 ГК РФ не освобождается от обязанности возместить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из неосновательного получения (использования) чужого имущества.
Следовательно, право общества на предъявление иска о взыскании убытков к собственному единоличному исполнительному органу не исключает возможности предъявления иска, направленного на удовлетворение того же имущественного интереса за счет неосновательно обогатившегося лица, участвовавшего в выводе имущества. К совпадающим обязательствам упомянутых лиц перед обществом подлежат применению нормы о солидарных обязательствах (пункт 4 статьи 1, статья 323 ГК РФ).
Кроме того, в указанном выше деле № А53-16963/2022 Верховный Суд по существу тоже говорит об утрате корпоративной возможности.
Здесь важно будет отметить, что Гражданским кодексом РФ, положением абзаца 2 части 2 статьи 15, предусмотрено следующее.
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Таким образом, в гражданском законодательстве РФ закреплена применяющаяся во многих правопорядках концепция disgorgement of profits. То есть виновное лицо, в случае явной недобросовестности при нарушении прав другого лица, отвечает за такое нарушение в повышенном размере, в размере своей незаконно полученной выгоды.
Гражданским кодексом РФ, положением части 4 статьи 1, предусмотрено, что:
4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Таким образом, иски о взыскании убытков по корпоративным основаниям могут перетекать в более сложные иски (группы исков) о взыскании упущенной выгоды (как это предусмотрено в ГК РФ, но скорее disgorgement of profits) и иски о взыскании неосновательного обогащения.
Почти любой корпоративный спор при достижении высокой степени конфликтности приводит к искам об исключении из числа участников общества. Количество рассмотренных споров данной категории показывает, что данные иски получили широкое распространение и их число продолжает увеличиваться.
В ФЗ об АО прекращение статуса акционера отрегулировано на уровне нормы закона и практически не вызывает вопросов в толковании. В случае же с обществом с ограниченной ответственностью, несмотря на наличие отдельной нормы статьи 10 ФЗ об ООО, информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью», такие вопросы возникают.
Подходы судов от практически полной невозможности исключить участника из общества претерпели изменение до частого применения данного инструмента и удовлетворения соответствующих исков.
В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.11.2021 № Ф04-7398/2019 по делу № А27-4513/2019 суд по существу сделал вывод о возможности взыскания убытков, причиненных обществу директором, в пользу материнского общества.
Однако такое взыскание возможно только в том случае, если ПАО «Кокс» выполняет в структуре холдинга функцию аккумулирования и перераспределения доходов, полученных группой компаний; в ином случае размер убытков необходимо определять пропорционально вкладу каждого общества, включенного в структуру холдинга.
Непосредственно связанными с таким основным требованием зачастую заявляются требования об оспаривании сделок, совершенных директором, на основании статьи 173.1 ГК РФ, пункта 6 статьи 79 ФЗ об АО, пункта 4 статьи 46 ФЗ об ООО (крупные сделки), а также пункта 2 статьи 174 ГК РФ, статьи 84 ФЗ об АО, пункта 6 статьи 45 ФЗ об ООО (сделки с заинтересованностью) и просто на основании пункта 2 статьи 174 ГК РФ в случае причинения убытков обществу совершенной сделкой. Подходы по рассмотрению таких споров были собраны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – Пленум № 27). Внешнее выражение деятельности и результат деятельности общества складывается из результатов совершенных сделок, собственно, и причиненные обществу убытки – это следствие совершенных или не совершенных сделок. Поэтому сочетание данных требований при рассмотрении судебных споров – достаточно частое явление.
Споры в отношении решений, принятых обществом, как правило, также касаются одобрения сделок общества или изменений уставного капитала / вкладов в имущество общества. Этим обусловлено большое количество дел в данной категории.
С момента внесения соответствующих изменений в ГК РФ, ФЗ об АО, ФЗ об ООО в отношении оспаривания сделок, а также Пленума № 27 прошло несколько лет, что позволило выработать вполне определенную практику по данной категории дел. Тем не менее в конце 2024 года было вынесено прецедентное определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2024 № 308-ЭС24-3124 по делу № А53-16963/2022. Верховный Суд по существу продолжил тенденцию, имеющуюся в регулировании корпоративных правоотношений: судебное усмотрение заменяет / существенно видоизменяет норму права. В данном определении Верховный Суд счел, что при определенных обстоятельствах, по правилам оспаривания крупных сделок, могут быть оспорены и сделки, формально не попадающие по количественному критерию. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.12.2024 по данному делу данная позиция была принята, соответствующие сделки признаны недействительными. По данному делу не подавалась апелляционная жалоба, что, видимо, показывает, что ответчики оценили вероятность пересмотра решения как очень низкую. При этом важно отметить, что в данном конкретном споре оспариваемая сделка могла быть признана недействительной и по причине причинения убытков обществу, то есть по пункту 2 статьи 174 ГК РФ.
В некоторых корпоративных спорах истцы в качестве убытков заявляют не только прямые убытки, но и упущенную выгоду в виде утраты корпоративной возможности. Действительно, учитывая фидуциарный характер обязанностей директора, а в какой-то степени и участников/акционеров (с определенными оговорками), директор может причинить убытки обществу, не только заключив заранее убыточную сделку, но и своими действиями или бездействием лишив общество возможности вести деятельность, заключать определенные сделки. Таким примером утраты корпоративной возможности является создание параллельного бизнеса, продажа имущества которого могла бы быть использована для высокомаржинальных проектов самим обществом (например, строительство жилья, IT-проекты с использованием объектов интеллектуальной собственности). В частности, в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 16.04.2024 № Ф05-35866/2022 по делу № А40-131626/2022 суд сделал следующие выводы:
Поведение генерального директора при ведении дел общества может быть признано недобросовестным, в частности, если директор использовал коммерческие возможности возглавляемого им общества в своих интересах или интересах третьих лиц (присвоение корпоративных возможностей), в том числе допустил перевод осуществляемой обществом деятельности на иное юридическое лицо, организовал создание «фирмы-двойника», на которую был переключен потребительский спрос и т. п.
При этом участник оборота, в интересах которого действовал генеральный директор, в силу пункта 1 статьи 1107 ГК РФ не освобождается от обязанности возместить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из неосновательного получения (использования) чужого имущества.
Следовательно, право общества на предъявление иска о взыскании убытков к собственному единоличному исполнительному органу не исключает возможности предъявления иска, направленного на удовлетворение того же имущественного интереса за счет неосновательно обогатившегося лица, участвовавшего в выводе имущества. К совпадающим обязательствам упомянутых лиц перед обществом подлежат применению нормы о солидарных обязательствах (пункт 4 статьи 1, статья 323 ГК РФ).
Кроме того, в указанном выше деле № А53-16963/2022 Верховный Суд по существу тоже говорит об утрате корпоративной возможности.
Здесь важно будет отметить, что Гражданским кодексом РФ, положением абзаца 2 части 2 статьи 15, предусмотрено следующее.
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Таким образом, в гражданском законодательстве РФ закреплена применяющаяся во многих правопорядках концепция disgorgement of profits. То есть виновное лицо, в случае явной недобросовестности при нарушении прав другого лица, отвечает за такое нарушение в повышенном размере, в размере своей незаконно полученной выгоды.
Гражданским кодексом РФ, положением части 4 статьи 1, предусмотрено, что:
4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Таким образом, иски о взыскании убытков по корпоративным основаниям могут перетекать в более сложные иски (группы исков) о взыскании упущенной выгоды (как это предусмотрено в ГК РФ, но скорее disgorgement of profits) и иски о взыскании неосновательного обогащения.
Почти любой корпоративный спор при достижении высокой степени конфликтности приводит к искам об исключении из числа участников общества. Количество рассмотренных споров данной категории показывает, что данные иски получили широкое распространение и их число продолжает увеличиваться.
В ФЗ об АО прекращение статуса акционера отрегулировано на уровне нормы закона и практически не вызывает вопросов в толковании. В случае же с обществом с ограниченной ответственностью, несмотря на наличие отдельной нормы статьи 10 ФЗ об ООО, информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью», такие вопросы возникают.
Подходы судов от практически полной невозможности исключить участника из общества претерпели изменение до частого применения данного инструмента и удовлетворения соответствующих исков.
Ниже некоторые примеры подхода ФАС Московского округа при рассмотрении данной категории дел
Кроме перечисленных выше корпоративных судебных споров, нужно также отметить споры об истребовании документов у общества. Данная категория дел остается неизменной с момента принятия всех профильных законов по корпоративным правоотношениям.
Если говорить о смежных судебных делах, которые существенно влияют или могут влиять на рассмотрение корпоративных споров, я бы отметил споры из дел о банкротстве и рассмотрение уголовных дел.
В отношении споров о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в делах о банкротстве, по статистике Федресурса, за 2024 год подано 6 248 заявлений, из которых удовлетворено 3 229, привлечено к ответственности 5 331 лицо, на общую сумму 432,84 млрд рублей.
При этом нужно напомнить, что в соответствии с пунктом 12 Пленума № 62, он распространялся и на действия внешних и конкурсных управляющих, поскольку данный институт (взыскание убытков с директоров) в законодательстве о банкротстве на тот момент отсутствовал. Сейчас же, несмотря на то, что законодательство о банкротстве, как и корпоративное, является частью гражданского законодательства, суды указывают в судебных актах при рассмотрении корпоративных споров о недопустимости применения даже подходов в доказывании, аналогичных подходам в законодательстве о банкротстве.
Общим для возможности возбуждения дела о привлечении директора к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, равно как и возбуждение уголовного дела, может являться установление в корпоративном споре фактических обстоятельств о причинении своими действиями или бездействием убытков обществу.
Безусловно, при оценке перспектив конкретного корпоративного спора или комплаенсе в отношении текущей деятельности общества, необходимо оценивать риски в совокупности с рисками из указанных категорий дел.
Если говорить о смежных судебных делах, которые существенно влияют или могут влиять на рассмотрение корпоративных споров, я бы отметил споры из дел о банкротстве и рассмотрение уголовных дел.
В отношении споров о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в делах о банкротстве, по статистике Федресурса, за 2024 год подано 6 248 заявлений, из которых удовлетворено 3 229, привлечено к ответственности 5 331 лицо, на общую сумму 432,84 млрд рублей.
При этом нужно напомнить, что в соответствии с пунктом 12 Пленума № 62, он распространялся и на действия внешних и конкурсных управляющих, поскольку данный институт (взыскание убытков с директоров) в законодательстве о банкротстве на тот момент отсутствовал. Сейчас же, несмотря на то, что законодательство о банкротстве, как и корпоративное, является частью гражданского законодательства, суды указывают в судебных актах при рассмотрении корпоративных споров о недопустимости применения даже подходов в доказывании, аналогичных подходам в законодательстве о банкротстве.
Общим для возможности возбуждения дела о привлечении директора к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, равно как и возбуждение уголовного дела, может являться установление в корпоративном споре фактических обстоятельств о причинении своими действиями или бездействием убытков обществу.
Безусловно, при оценке перспектив конкретного корпоративного спора или комплаенсе в отношении текущей деятельности общества, необходимо оценивать риски в совокупности с рисками из указанных категорий дел.
Общие проблемы регулирования корпоративных отношений
Подытоживая сказанное в настоящей статье, считаю, что основной проблемой в корпоративных спорах остается низкая как по качеству, так и по объему норм урегулированность корпоративных правоотношений.
Вопрос судебного усмотрения при его существенном развитии по ряду корпоративных споров вызывает сомнение в его системности и устойчивости во времени, что является очень важным для стабильности оборота и снижения транзакционных издержек.
Предоставление широкого начала волеизъявлению субъектов в корпоративных правоотношениях, переход на договорные отношения также имеет свои минусы и не имеет большого потенциала, на мой взгляд. Кроме того, такой подход противоречит и истории развития гражданского права в России.
Также считаю, что привлечение третейских судов для разрешения корпоративных споров должно получить большее внимание и вовлеченность всех имеющих к этому отношение профессиональных сообществ.
Вопрос судебного усмотрения при его существенном развитии по ряду корпоративных споров вызывает сомнение в его системности и устойчивости во времени, что является очень важным для стабильности оборота и снижения транзакционных издержек.
Предоставление широкого начала волеизъявлению субъектов в корпоративных правоотношениях, переход на договорные отношения также имеет свои минусы и не имеет большого потенциала, на мой взгляд. Кроме того, такой подход противоречит и истории развития гражданского права в России.
Также считаю, что привлечение третейских судов для разрешения корпоративных споров должно получить большее внимание и вовлеченность всех имеющих к этому отношение профессиональных сообществ.
Сохраните эту статью или поделитесь в соцсетях
Может быть интересно:
Особые правила регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах − экономически значимых организациях
Закон вводит понятие иностранной холдинговой компании, устанавливает критерии отнесения хозяйственных обществ к экономически значимым организациям, определяет их правовой статус и особенности осуществления ИХК и косвенными владельцами корпоративных прав в отношении ЭЗО, а также устанавливает особенности приобретения ими публичного статуса.
Основные изменения в сделках слияний и поглощений
Основные изменения M&A-сделок за 2022–2024 годы
Практика ФАС Московского округа по делам об исключении из состава участников ООО
Руслан Нагайбеков, адвокат, советник корпоративной практики Intana Legal, подготовил обзор практики ФАС Московского округа по делам об исключении из состава участников ООО. Частичная выборка дел представлена за 2024 и 2025 годы.


